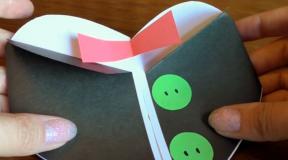Андрей Некрасов - Морские сапоги. Рассказы
Много лет назад я впервые увидел Тихий океан. Матросом, кочегаром, рыбаком и ловцом морского зверя обошел я все побережье от Чукотки до Посьета, а потом молодым штурманом мне пришлось водить корабли по Охотскому морю.
Много интересного повидал я за эти годы, и кое-что из того, что пришлось пережить и увидеть, я, как сумел, записал в своих рассказах.
Из этих рассказов в 1935 году собралась моя первая книжка - «Морские сапоги». Ее тогда охотно читали ребята.
С тех пор прошло много лет. Мои первые читатели выросли. Многие из них стали хорошими моряками.
Недавно мне в руки попала эта книжка. Я полистал ее, вспомнил, и мне подумалось, что сегодняшним ребятам тоже, наверное, интересно прочесть эти рассказы.
Правда, многое изменилось на Дальнем Востоке. Могучие промысловые и транспортные корабли под красным советским флагом бороздят сегодня воды Тихого океана. И люди там живут другие, и техника другая пришла в Приморье, и жизнь там стала другая. Но почему бы, подумалось мне, нашим ребятам не узнать о том, как полвека назад жили и трудились их деды на Дальнем Востоке? Ведь эти люди из забытого, истерзанного гражданской войной и интервенцией края голыми руками создавали то, чем сегодня стал наш советский Дальний Восток.
МОРСКИЕ САПОГИ
К вечеру отец вернулся из города. Он привязал лодку, поднялся на пристань, почерневшую от времени, и, уверенно ступая, зашагал по берегу. Одной рукой он придерживал на плече весла и багор, в другой - нес большой узел, завязанный в новый пестрый платок.
Пап, чего привез? - крикнул Гришка, выбегая навстречу.
Отец промолчал. Тогда впереди отца, пританцовывая и оглядываясь на каждом шагу, Гришка помчался к дому.
У крыльца отец поставил весла, потопал, сбивая песчинки, прилипшие к ногам, и не спеша вошел в дверь. Потом так же неторопливо он положил узел на лавку, развязал платок, развернул белую тряпицу, и тут Гришка, глаз не спускавший с отцовских рук, ахнул от неожиданности. Он с самого начала догадался, что ждет его знатный гостинец, но такого подарка и он не ожидал. В свертке оказались сапоги. Да какие! Настоящие морские сапоги, с высокими голенищами раструбом, с двойным носком, с толстой подметкой, подкованной медными гвоздями. И пахли они не кремом каким-нибудь, а настоящим дегтем. О таких сапогах Гришка мечтал давно, они ему и во сне снились. И вот теперь, когда сапоги оказались у него в руках, Гришка испугался, что будут они не впору. Уж больно маленькими, точно игрушки, показались его сапоги рядом с отцовскими.
Наскоро поблагодарив отца, Гришка достал из своего сундучка чистые портянки, ладонями вытер правую ногу, умело подмотал портянку и за ушки, осторожно, натянул сапог. Он пришелся в самый раз, и у Гришки отлегло от сердца. Левый тоже оказался впору. Гришка встал, потопал, как отец, каблуками, носками, всей ступней… Сапоги сидели, как заказные, и Гришке захотелось сейчас же побегать в них. Он вышел на крыльцо, прошелся по берегу. Он нарочно ступил на груду сучьев, сложенных у сарая. Сучья захрустели, как сухари, а ногам хоть бы что! И галька разлетается из-под сапог во все стороны, точь-в-точь как у отца, когда он ходит по отмели. Здорово!
Обегав все кругом, Гришка решил до конца испытать обновку: он важно подтянул голенища и осторожно вошел в реку. Вода охватила ноги, будто кто сжал их холодными ладонями. Поднявшись со дна, забурлили кругом веселые пузырьки, и ни одна капля не просочилась в сапоги.
Гришке вдруг стало стыдно: в настоящих морских сапогах он себя почувствовал настоящим, взрослым моряком, а взрослые никогда не ходят в воду зря, без дела. Можно, конечно, было тут же и выйти на берег, но выходить совсем не хотелось. Тогда Гришка придумал себе дело в воде: окинув хозяйским взглядом пристань, он постоял минуту, будто задумавшись.
Посмотреть, хорошо ли лодка привязана? - сказал он наконец и, прямо против течения, разгребая сапогами воду, зашагал к пристани.
Он доверху подтянул голенища, но возле самой лодки все равно черпнул бы сапогами, если бы не успел рыбкой навалиться на корму и задрать ноги кверху. Потом он перелез на нос, перебирая мокрую веревку, подтянул лодку к пристани и нащупал узел. Узел ему не понравился - слабо затянут. Гришка дернул за свободный конец, узел сразу распустился, веревка выхлестнулась из кольца, а Гришка поскользнулся и растянулся поперек банки. Он сразу вскочил, но течением нос лодки уже отвернуло от пристани. Гришка кинулся на корму, но и корма уже отошла далеко, а грести и цепляться было нечем.
Гришка прикинул глазом: доплыть тут не штука, лодку вот только бросить придется. Но это тоже не беда: все равно прибьет ее куда-нибудь, а не прибьет - у отца новая есть лодка, еще лучше. Уже и осмоленная, только спустить осталось. Значит, пока не поздно, нужно плыть. А то унесет на середину - оттуда и не доплывешь…
Вдруг Гришка вспомнил о сапогах. Лодку-то можно бросить, а сапоги не бросишь. И в сапогах не поплывешь - вон они какие, в палец подметки… Сразу потянут на дно, а здесь глубина от самого берега начинается… Разуться да на лодке оставить их? Но об этом Гришка даже и думать не хотел.
Так, ничего не придумав, Гришка сел на банку. А лодку тем временем вынесло поближе к середине реки, на самый фарватер, и потянуло прямо вниз по течению. Шел отлив, и вода быстро скатывалась в море.
Гришка осмотрелся. Солнце уже закатилось за сопку, но было еще светло. Слева, прямо над их маленькой пристанью, высокой стеной уходил под самое небо зеленый берег. Справа, призрачный и далекий, в плотном куполе дыма кораблей и заводов, раскинулся город Николаевск. Над Амуром, гладким, как зеркало, чуть-чуть курился ту-ман, и на всей реке, сколько хватал глаз, - ни парохода, ни катера, ни паруса…
Тут только Гришка понял, что попал в настоящую беду. Он чуть не разревелся, но вспомнил про сапоги и реветь не стал. Почему-то показалось ему, что вот-вот, само собой, придет спасение: или лодку прибьет к берегу, или на буксир подберет его кто-нибудь, или отец догонит на катере. Так или иначе - не дадут ему пропасть. А раз так, то и горевать нечего.
Забыв об опасности, Гришка стал думать о том, как осенью он придет в школу, как все будут завидовать его сапогам; потом вспомнились ребята, учителя… Свернувшись калачиком, Гришка согрелся и незаметно заснул крепким сном. Спал он долго.
А когда проснулся, уже совсем стемнело, и берегов не стало видно. Дул холодный ветер. Сердитые волны колотили и швыряли лодку. На дне появилась вода. Кругом шумело пустынное, темное море.
Спать совсем не хотелось, зато захотелось есть, так что от голода сосало под ложечкой.
Вдруг Гришке показалось, что в море блеснул огонек. Он пригляделся - над самой водой плыла навстречу желтая звезда. Потом выглянули из темноты еще две звездочки - зеленая и красная. Гришка понял: прямо на него шло самоходное судно. Он не спускал глаз с цветных огоньков. Они быстро надвигались. Сквозь шум волн, ставший уже привычным, Гришка расслышал недалекий стук машины. Еще не решив, что делать дальше, Гришка встал во весь рост, но тут вдруг что-то тяжелое ударило в борт лодки…
Лодка крякнула и повалилась набок. Из темноты надвинулась неясная громадина. Гришка кинулся отпихивать ее руками, он закричал и тут нечаянно нащупал в темноте что-то жесткое и твердое вроде толстой холодной доски. Он ухватился за эту доску. В то же мгновение вода с шумом хлынула в лодку, лодка ушла из-под ног и пропала. А Гришка так и остался висеть. Со всех сторон его обдавали холодные брызги, он уже вымок до нитки, но не замечал ничего. Крича и болтая ногами, Гришка с каждой секундой крепче впивался руками в холодную доску, понимая, что в этом его спасение.
Вдруг откуда-то сверху упал свет. Гришка быстро огляделся и ясно увидел, что висит над водой, уцепившись за лапу якоря.
Андрей Некрасов
Морские сапоги (рассказы)
Много лет назад я впервые увидел Тихий океан. Матросом, кочегаром, рыбаком и ловцом морского зверя обошел я все побережье от Чукотки до Посьета, а потом молодым штурманом мне пришлось водить корабли по Охотскому морю.
Много интересного повидал я за эти годы, и кое-что из того, что пришлось пережить и увидеть, я, как сумел, записал в своих рассказах.
Из этих рассказов в 1935 году собралась моя первая книжка - «Морские сапоги». Ее тогда охотно читали ребята.
С тех пор прошло много лет. Мои первые читатели выросли. Многие из них стали хорошими моряками.
Недавно мне в руки попала эта книжка. Я полистал ее, вспомнил, и мне подумалось, что сегодняшним ребятам тоже, наверное, интересно прочесть эти рассказы.
Правда, многое изменилось на Дальнем Востоке. Могучие промысловые и транспортные корабли под красным советским флагом бороздят сегодня воды Тихого океана. И люди там живут другие, и техника другая пришла в Приморье, и жизнь там стала другая. Но почему бы, подумалось мне, нашим ребятам не узнать о том, как полвека назад жили и трудились их деды на Дальнем Востоке? Ведь эти люди из забытого, истерзанного гражданской войной и интервенцией края голыми руками создавали то, чем сегодня стал наш советский Дальний Восток.
МОРСКИЕ САПОГИ
К вечеру отец вернулся из города. Он привязал лодку, поднялся на пристань, почерневшую от времени, и, уверенно ступая, зашагал по берегу. Одной рукой он придерживал на плече весла и багор, в другой - нес большой узел, завязанный в новый пестрый платок.
Пап, чего привез? - крикнул Гришка, выбегая навстречу.
Отец промолчал. Тогда впереди отца, пританцовывая и оглядываясь на каждом шагу, Гришка помчался к дому.
У крыльца отец поставил весла, потопал, сбивая песчинки, прилипшие к ногам, и не спеша вошел в дверь. Потом так же неторопливо он положил узел на лавку, развязал платок, развернул белую тряпицу, и тут Гришка, глаз не спускавший с отцовских рук, ахнул от неожиданности. Он с самого начала догадался, что ждет его знатный гостинец, но такого подарка и он не ожидал. В свертке оказались сапоги. Да какие! Настоящие морские сапоги, с высокими голенищами раструбом, с двойным носком, с толстой подметкой, подкованной медными гвоздями. И пахли они не кремом каким-нибудь, а настоящим дегтем. О таких сапогах Гришка мечтал давно, они ему и во сне снились. И вот теперь, когда сапоги оказались у него в руках, Гришка испугался, что будут они не впору. Уж больно маленькими, точно игрушки, показались его сапоги рядом с отцовскими.
Наскоро поблагодарив отца, Гришка достал из своего сундучка чистые портянки, ладонями вытер правую ногу, умело подмотал портянку и за ушки, осторожно, натянул сапог. Он пришелся в самый раз, и у Гришки отлегло от сердца. Левый тоже оказался впору. Гришка встал, потопал, как отец, каблуками, носками, всей ступней… Сапоги сидели, как заказные, и Гришке захотелось сейчас же побегать в них. Он вышел на крыльцо, прошелся по берегу. Он нарочно ступил на груду сучьев, сложенных у сарая. Сучья захрустели, как сухари, а ногам хоть бы что! И галька разлетается из-под сапог во все стороны, точь-в-точь как у отца, когда он ходит по отмели. Здорово!
Обегав все кругом, Гришка решил до конца испытать обновку: он важно подтянул голенища и осторожно вошел в реку. Вода охватила ноги, будто кто сжал их холодными ладонями. Поднявшись со дна, забурлили кругом веселые пузырьки, и ни одна капля не просочилась в сапоги.
Гришке вдруг стало стыдно: в настоящих морских сапогах он себя почувствовал настоящим, взрослым моряком, а взрослые никогда не ходят в воду зря, без дела. Можно, конечно, было тут же и выйти на берег, но выходить совсем не хотелось. Тогда Гришка придумал себе дело в воде: окинув хозяйским взглядом пристань, он постоял минуту, будто задумавшись.
Посмотреть, хорошо ли лодка привязана? - сказал он наконец и, прямо против течения, разгребая сапогами воду, зашагал к пристани.
Он доверху подтянул голенища, но возле самой лодки все равно черпнул бы сапогами, если бы не успел рыбкой навалиться на корму и задрать ноги кверху. Потом он перелез на нос, перебирая мокрую веревку, подтянул лодку к пристани и нащупал узел. Узел ему не понравился - слабо затянут. Гришка дернул за свободный конец, узел сразу распустился, веревка выхлестнулась из кольца, а Гришка поскользнулся и растянулся поперек банки. Он сразу вскочил, но течением нос лодки уже отвернуло от пристани. Гришка кинулся на корму, но и корма уже отошла далеко, а грести и цепляться было нечем.
Гришка прикинул глазом: доплыть тут не штука, лодку вот только бросить придется. Но это тоже не беда: все равно прибьет ее куда-нибудь, а не прибьет - у отца новая есть лодка, еще лучше. Уже и осмоленная, только спустить осталось. Значит, пока не поздно, нужно плыть. А то унесет на середину - оттуда и не доплывешь…
Вдруг Гришка вспомнил о сапогах. Лодку-то можно бросить, а сапоги не бросишь. И в сапогах не поплывешь - вон они какие, в палец подметки… Сразу потянут на дно, а здесь глубина от самого берега начинается… Разуться да на лодке оставить их? Но об этом Гришка даже и думать не хотел.
Так, ничего не придумав, Гришка сел на банку. А лодку тем временем вынесло поближе к середине реки, на самый фарватер, и потянуло прямо вниз по течению. Шел отлив, и вода быстро скатывалась в море.
Гришка осмотрелся. Солнце уже закатилось за сопку, но было еще светло. Слева, прямо над их маленькой пристанью, высокой стеной уходил под самое небо зеленый берег. Справа, призрачный и далекий, в плотном куполе дыма кораблей и заводов, раскинулся город Николаевск. Над Амуром, гладким, как зеркало, чуть-чуть курился ту-ман, и на всей реке, сколько хватал глаз, - ни парохода, ни катера, ни паруса…
Тут только Гришка понял, что попал в настоящую беду. Он чуть не разревелся, но вспомнил про сапоги и реветь не стал. Почему-то показалось ему, что вот-вот, само собой, придет спасение: или лодку прибьет к берегу, или на буксир подберет его кто-нибудь, или отец догонит на катере. Так или иначе - не дадут ему пропасть. А раз так, то и горевать нечего.
Забыв об опасности, Гришка стал думать о том, как осенью он придет в школу, как все будут завидовать его сапогам; потом вспомнились ребята, учителя… Свернувшись калачиком, Гришка согрелся и незаметно заснул крепким сном. Спал он долго.
А когда проснулся, уже совсем стемнело, и берегов не стало видно. Дул холодный ветер. Сердитые волны колотили и швыряли лодку. На дне появилась вода. Кругом шумело пустынное, темное море.
| Однажды, в студеную зимнюю пору, Я из лесу вышел; был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору Лошадка, везущая хворосту воз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, Здорово, парнище!- «Ступай себе мимо!» (В лесу раздавался топор дровосека.) Так вон оно что! А как звать тебя? - «Власом». |
Однажды зимою, колымский бродяга, Я чапал тайгою, был жуткий дубняк. Секу, кочумает на сопку коняга, Таранит какой-то обапол в санях. И рядом, каная за честного вОра, «Здорово, братишка!» - Пошёл бы ты в жопу! Пахать западло для козырного зэка... «Как, брат, погоняло?» - Да Влас мне кликуха. |
Комментарии
БРОДЯГА – здесь в жаргонном понимании: уважаемый арестант, имеющий вес в преступном мире.
ЧАПАТЬ – идти.
ДУБНЯК – мороз.
СЕЧЬ – смотреть. КОЧУМАТЬ – в данном случае: идти. Вообще зачастую это слово произносят с пренебрежительным оттенком: кочумай отсюда! А то и – кочумай! Что значит – прекрати, отвали. В определённом контексте – заткнись и т.д. (то есть прекратить какие-либо действия).
ТАРАНИТЬ – нести, везти.
ОБАПОЛ – отходы при обработке бревна. С двух сторон бревно по бокам обрезают, отпавшие горбыли и есть обапол. В народных говорах обапол значит: вокруг, около (от церковнославянского «оба полы» – по обе сторону полы, то есть по обе стороны одежды). На севере нередко от сибиряков услышишь: «Дело говори, а не ходи вокруг да обапол!».
КАНАТЬ ЗА ЧЕСТНОГО ВОРА - изображать из себя авторитетного преступника. Если ты мастью не вышел, значит, сухаришься. Башку оторвут.
ПОД ЖАБРЫ - жабры вообще: горло или лёгкие. За жабры взять – за горло. В данном случае под жабры – под узцы. В отношении людей взять под жабры – то же, что ласты скрутить: вывернуть руки и конвоировать.
ЛОХМЭН – лох значит простофиля. А лохмэн – в высшей степени
простофиля, поэтому иронически и добавлено «мэн» – мужчина. Есть
похвала: «Ну, ты мэн!». Вообще слово «лох» преступный мир заимствовал в
XIX веке из тайного языка бродячих торговцев вразнос - коробейников,
или офеней. На офенском языке «лохом» называли мужика: «Лохи биряли
клыги и гомза» («Мужики угощали брагою и вином»). Уже тогда у слова был
оттенок пренебрежительный, о чём свидетельствует форма женского рода
«лоха» (или «солоха») - дура, нерасторопная, глупая баба. Оно и
понятно: бродячие торговцы вечно надували простодушных селян.
Но и мошенники-офени тоже не изобрели «лоха», а заимствовали его у
жителей русского Севера. Так в Архангельской губернии и в других местах
издавна называли сёмгу - рыбу семейства лососевых. Беломорские лохи -
рыба глуповатая и медлительная, а потому чрезвычайно удобная для ловли.
О чём свидетельствуют, например, поэтические строки Фёдора Глинки,
писавшего в стихотворении «Дева карельских лесов» (1828):
То сын Карелы молчаливый
Беспечных лохов сонный рой
Тревожит меткой острогой.
КОЛЁСА СО СКРИПОМ – новенькая обувь, ещё скрипит. Могут быть туфли, ботинки, сапоги.
БУШЛАТ – зэковский зимний тулуп.
С ТУЗОМ НА СПИНЕ – раньше каторжанину нашивали на спину жёлтый ромб, чтобы при побеге легче было попадать ему в спину. По воспоминаниям некоторых каторжан (кажется, Якубовича), тузы бывали также чёрными (в зависимости от цвета одежды). У Блока помните: «На спину б надо бубновый туз». Прилепить бубнового туза – значит, послать на особняк, в колонию особого режима, где мотают срок особо опасные рецидивисты.
С ГУЛЬКИН ХРЕН – простонародное: маленький, как половой член у голубя («гульки»).
БРАТИШКА – также брат, братан, братка, братэлла: обращение босяков друг к другу. Все они друг для друга – братва, братня.
СЛЕДИ ЗА БАЗАРОМ – или фильтруй базар, или вяжи метлу: следи за тем, что говоришь, ты позволяешь себе слишком много.
ПИСАНУТЬ – порезать ножом. Можно до смерти, но чаще – слегка пописАть, а можно лицо расписать, чтобы мама не узнала.
ХУЛЯ ТЫ, ОПЕР? - ходовая фраза. Ответ тому, кто хочет много знать. Праздные расспросы среди братвы не приветствуются.
ПАХАТЬ – работать не покладая рук.
ЗАПАДЛО – или за пАдло, или в падлу: стыдно, позорно, недостойно.Для представителя высокой масти (вор, козырный фраер) пахать действительно западло. Хотя бывают ситуации…
СЕМЬЯ - ещё говорят кентовка: небольшое объединение зэков, которые поддерживают друг друга, харчем делятся, барахлом, за семейников своих перед другими пишутся (защищают то есть). В питерских зонах, однако, «семейники» предпочитают не говорить: очень похоже на «семенники», нехорошая ассоциация…
ЧЕЛОВЕК – уважительная характеристика босяка, каторжанина: «Это человек!». Или из «мужиков» (зэков, которые пашут и тихо тянут свой срок)выделяют близких блатному братству – «мужик-человек», или «воровской мужик». А «люди» – это авторитетные каторжане (раньше так называли исключительно воров).
КОДЛЯК – также кодла, кодло: сборище, компания.
БАКЛАНЬЁ – собирательное от баклан: зэк, который любит поскандалить, пошуметь, нарывается на неприятности. К таким относятся с презрением.
ПОГОНЯЛО - прозвище, кличка. То же – кликуха. Последнее слово нынче не любят. «Кликуха у собаки, у меня погремуха».
РАЗМЕНЯТЬ – отбыть определённую часть назначенного по суду наказания.
СЛИНЯТЬ БЕЗ ГОРЯ – исчезнуть без осложнений.
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Полчаса спустя мы подошли к киту. Надев пробковые нагрудники, пятеро смельчаков спустили шлюпку, обмотали кита цепями вокруг хвоста и вокруг плавников, подвели его к борту шхуны и крепко привязали стальными концами. Теперь сколько бы воды ни набрала «Крестьянка» – тяжелая туша кита все равно не дала бы ей опрокинуться.
Восемь часов спустя мы вошли в бухту Олюторскую, ведя на буксире кита и шхуну. Тут, в Олюторской, стояла наша китобойная база – огромный, как город, пароход «Камчадал». К нему на палубу за хвост подняли нашего кита и тут же принялись разделывать огромную тушу. Ножами, похожими на хоккейные клюшки, резали кита на куски, забрасывали их в горловины огромных мясорубок, а внизу, глубоко под палубой, в больших паровых котлах вытапливали китовый жир.
А «Крестьянка» стояла под бортом у «Камчадала», и паровой насос быстро откачивал из нее воду. Прямо на глазах шхуна теряла крен и поднималась из воды.
Вечером в большой столовой «Камчадала» и мы и моряки с «Крестьянки» – все вместе сидели за столом и ели вкусное жаркое, приготовленное из китового мяса. А потом мы снова собрались в своей кают-компании и принялись за прерванный рапорт. К празднику он опоздал. Но зато мы написали в телеграмме уже о шестидесяти четырех китах и, конечно, не забыли сообщить о том, что гарпунер, Кнут Нордендаль, иностранный специалист, объявил себя ударником.
КОСТЯНАЯ КОРОБОЧКА
Два дня пароход «Коряк» простоял в Петропавловске, разгрузился, поднял якорь и пошел дальше на север.
Погода стояла бурная. Те немногие пассажиры, которые остались на судне, слегли от морской болезни, и я думал, что до Олюторки, куда я добирался по служебным делам, не с кем будет и словом перекинуться.
К счастью, я ошибся. Поздно вечером, заглянув в кают-компанию, я заметил там незнакомого пассажира. Заложив ногу на ногу, он сидел, чуть покачиваясь, в капитанском кресле и дымил душистым табаком.
По столу ползала мягкая шляпа. Рыжая канадская куртка, подбитая белой стриженой овчиной, в такт размахам судна качалась на вешалке.
Я поздоровался, уселся напротив и закурил свою трубку.
Так мы просидели несколько минут, дымя и разглядывая друг друга. Лампа, привинченная к потолку, хорошо освещала наши лица.
На вид незнакомцу можно было дать лет тридцать шесть или немного больше. Ранняя седина чуть пробивалась на его висках. Он был тщательно выбрит, только темные усики топорщились над губой.
В том, что он русский и в этих местах не в первый раз, я не сомневался ни минуты. Но я мог бы поспорить на что угодно, что он долго прожил за границей. И не в костюме тут было дело. В манере держаться, в лице, в движениях от долгого пребывания в чужой стране всегда остаются едва уловимые, но прочные следы.
Обычно я легко угадываю профессию незнакомого человека. Но тут я стал в тупик. Так сидеть, как сидел он в девятибалльный шторм на валком, маленьком пароходике, мог только моряк. Но моряк никогда не надел бы шерстяные гетры, клетчатые бриджи и горные ботинки с «триконями».
Навязывать разговор незнакомцу мне не хотелось. Игра в молчанки тоже надоела, и я решил уйти. Я и ушел бы, так и не заговорив с ним, но, поднимаясь, я выронил маленькую коробочку, в которой держал табак.
В это время пароход сильно качнуло. Коробочка скользнула по палубе и, описав сложную кривую, оказалась прямо у ног незнакомца. Он, не вставая, протянул руку, поймал мою коробочку и уже хотел подать ее мне, но вдруг задержал руку и, пристально посмотрев мне в глаза, сказал:
– Продайте мне эту вещицу. А? Вам она не так уж нужна. Мне, право, нужнее, чем вам. Это моя коробочка. Лет… – он задумался на секунду, – лет пятнадцать назад я потерял ее…
Коробочкой этой я совсем не дорожил. Она досталась мне случайно от знакомого моряка, а тот нашел ее среди обломков американской шхуны, прибитых к берегу.
Таких коробочек сколько угодно на севере. Местные жители искусно делают их из клыков моржа. И стоят они гроши. Единственно, что отличало мою коробочку от тысяч ей подобных, была надпись на английском языке и простенький рисунок, не очень тщательно выжженный на крышке. При некотором напряжении фантазии на рисунке можно было разобрать поварской колпак, а надпись в переводе означала: «Кухонная соль не сделает повара старой солью».
Это непереводимая игра слов. «Старой солью» англичане называют бывалых моряков. Это примерно то же, что по-нашему «морской волк».
– Ну что ж, – сказал я, – идет. Только вот как насчет цены?
– А сколько же вы хотите? Я помолчал, будто прикидывая и не решаясь назвать цену.
– Вот так, – сказал я наконец. – Вы расскажете мне историю этой коробочки. Это и будет ценой. Устроит вас?
– Дороговато, – сказал незнакомец. – Я не очень люблю вспоминать об этом. Но пусть будет по-вашему. Ночи теперь длинные, а днем все равно нечего делать. Пойдемте ко мне, я расскажу, как это было…
– Для начала давайте познакомимся, – сказал он, когда мы пришли в его каюту. – Скалкин Петр Петрович. – Он протянул мне большую крепкую руку.
Я пожал ее и назвался. Петр Петрович предложил мне кресло, сам уселся на складном стуле, закурил и начал свой рассказ.
– Сейчас я горный инженер-разведчик. А в то время плавал поваренком на шхуне и мечтал стать капитаном. Ничего не вышло из этого, но я, признаться, и не жалею. О море хорошо мечтать, сидя на берегу, особенно в такую вот погоду. Вы слышали о Свенсоне? – спросил он неожиданно.
В Норвегии я знавал многих Свенсонов. Там фамилия Свенсон встречается не реже, чем у нас Иванов. Я так и ответил.
– Нет-нет, – перебил меня Скалкин. – Те Свенсоны в Норвегии, бог с ними. Здешнего, дальневосточного Свенсона, не приходилось вам знать?
Я отрицательно покачал головой.
– Ну, не беда, – сказал Скалкин, – тут, на побережье, вы еще не раз услышите о нем. Здесь его и сейчас помнят. Он тоже, конечно, норвежец, но в Норвегии никогда не бывал. Родился он где-то на Аляске, считался американцем, а в этих местах проплавал лет двадцать пять и нажил миллионы.
Он вел здесь торговлю, этот Свенсон. Это называлось торговлей, а на самом деле это был настоящий грабеж. Старый мошенник обирал доверчивых чукчей и камчадалов, но, что и говорить, делал он это ловко.
Он не один здесь пиратствовал каждое лето. Как мухи на мед, слетались сюда торгаши-авантюристы. Другие держали тут склады, фактории, магазины. У Свенсона этого не было. Вместо приказчиков служили ему шаманы и здешние кулаки. Деньгами он не любил платить, платил водкой. Скупал шкуры и кость, вот такие коробочки тоже скупал. Они хорошо шли в Америке, и барыши у старика получались неплохие: за бутыл-ку водки он иногда выручал раз в сто больше, чем платил.
Возил он сюда и ружья и на этом деле тоже умел неплохо набивать карман. Хорошее ружье охотник здесь ценит, бережет, уважает. Иной «винчестер» всю жизнь служил бы хозяину. А Свенсон так поставил дело, что каждый год охотники покупали новые винтовки. Старик никогда не привозил патронов для прошлогодней партии оружия, и тому, кто хотел запастись зарядами, волей-неволей приходилось покупать новое ружье. Водку старик никогда не отпускал в долг. А оружие раздавал охотно, но потом за долги отбирал по дешевке лучшие шкуры.
При всем том его, пожалуй, даже любили здесь. На вид он был человек добродушный, простой, большой и сильный, как медведь. Такой памяти, как у него, я не встречал больше ни разу. Всех покупателей знал он по имени, здоровался с ними за руку, ходил в гости, пил с ними чай и ром, таскал на руках их ребят и говорил на всех языках побережья.
Я с ним познакомился в Петропавловске. Мне тогда исполнилось 17 лет. На Западе в то время шла война, а здесь у нас купцы, как в мирное время, сколачивали свои миллионы. Отец у меня пропал без вести на фронте, мать умерла от рака, и я один остался во Владивостоке. Весной предложили мне ехать на рыбные промыслы на Камчатку. Лето я проработал, а когда дело дошло до расчета, оказалось, что мне и домой добраться не на что. Тут я узнал, что на шхуну «Золотой лосось» нужен помощник повара. Понятно, я бе-гом помчался туда.
Вот так и познакомились мы со Свенсоном. По-русски он говорил хорошо. Он расспросил меня об отце, о матери, о том, как я жил прежде, пощупал мои мускулы, хлопнул по спине и сказал, что я могу оставаться на шхуне. В тот же вечер я принес на «Лосося» свой сундучок и пошел на камбуз чистить картошку.
Народ на «Лососе» плавал отчаянный – настоящие головорезы, но старик умел держать их в руках и заставлять работать. Сам он был отличным моряком, не боялся никакой работы и, что бы мы ни делали, всегда подгонял нас. При этом он любил говорить, что хороший моряк рано или поздно станет капитаном.
Среди нас были и итальянцы и шведы, но говорили на «Лососе» по-английски, и я за полгода выучился языку. Стряпать я тоже выучился, но не сразу, конечно. Дело это нехитрое, но и к нему нужно привыкнуть. Вот, видите? – Скал-кик потрогал маленький шрам над левой бровью. – Это память о моей первой каше.
Это было в начале моего первого плавания. Я мыл посуду на камбузе. Наш старший повар зашел ко мне и приказал на завтрак сварить саго. Утром, еще до рассвета, я затопил плиту, насыпал полкастрюли крупы, залил водой и поставил на огонь. Как только вода разогрелась, крупа через край полезла из моей кастрюли. Я взял большую ложку, выплеснул полкастрюли за борт и долил воды. Минуты не прошло, каша снова полезла через край, и пришлось еще полкастрюли отправлять рыбам на завтрак. Когда я третий раз проделал эту нехитрую операцию, кто-то сзади так ударил меня по левому уху, что я потерял сознание и рассек висок о край плиты.
Когда я очнулся, надо мной стоял Свенсон. Он осмотрел мою рану, промыл, заклеил липким пластырем и, похлопав меня по плечу, сказал добродушно:
«Пустяки, Пит, это будет на память о том, как нужно беречь добро…»
И я не обиделся на старика, вот, честное слово, не обиделся.
Были, конечно, и другие приключения в моей нехитрой работе. Но, так или иначе, довольно скоро я научился готовить лучше нашего повара, и Свенсон сам не раз хвалил меня за стряпню. По утрам, когда я варил кофе для команды, он частенько приходил на камбуз. Он любил сам поджаривать хлеб себе на завтрак и тут заодно философствовал, учил меня жить и рассказывал о своей беспокойной молодости. Тут, на камбузе, я в первый раз и услышал о том, что «кухонная соль не сделает повара старой солью». Мне, конечно, было обидно. Я мечтал о капитанских нашивках, спал и видел себя «старой солью» и как-то даже попросил хозяина поставить меня вместо заболевшего матроса. Но старик уже привык к моей стряпне, и я остался поваренком.
Для этой должности я был слишком велик ростом и слишком силен. Матросы посмеивались надо мной, они прозвали меня «Миссис Скалки» и как-то раз, отобрав мою коробочку, раскаленным гвоздем выжгли на крышке пословицу. Это случилось в открытом море. Другой коробочки достать было негде. Так она и осталась при мне до того самого дня, когда шхуна пошла ко Дну.
В Приморье уже шла гражданская война, а мы по-прежнему торговали. В тот раз, по-грузившись в Сан-Франциско, мы шли к берегам Северной Камчатки. В трюмах «Золотого лосося» лежало тонн пять охотничьего пороха, ружья, патроны, ножи, спирт, керосин в жестяных бидонах и много другого добра. Мы держали курс на Олюторскую. На этот раз старик с нее решил начать «обход своих владений», как он называл эти рейсы.
Двадцать девятого мая, как сейчас помню, я встал пораньше, чтобы испечь хлеб, вышел из кубрика и, едва ступив на палубу, поскользнулся и чуть не свалился. Зажег свет. Вся палуба от носа до кормы была залита черной вонючей жижей. Это механики ночью перекачивали горючее и разлили нефть по палубе. Мне-то было все равно – не мне убирать, но я заранее представил, как будет ворчать старик.
Я не ошибся. Пока я месил тесто, Свенсон вылез из своей каюты и пришел ко мне. Он был в скверном настроении и, пока возился со своим хлебом, все время ворчал о бездельниках, о неряхах и о том, что палуба на корабле – святое место.
На «Лососе» все, кроме вахтенных, спали. Стоял полный штиль. Море кругом лежало удивительно спокойное, и прямо из моря вставало огромное красное солнце.
Старик загляделся, а заглядеться было на что – восходы в тех местах красивы необычайно, уж я-то насмотрелся на них. Он забыл про свою сковородку. Вдруг масло вспыхнуло, камбуз сразу осветился. Старик выругался и через дверь швырнул сковородку прямо за борт.
В камбузе сразу стало еще темнее, а секунду спустя на левом борту вспыхнуло желтое пламя. Должно быть, горящие капли упали со сковороды, и нефть на палубе загорелась сразу в нескольких местах. Огонь быстро разбегался во все стороны. Я сразу понял, какая опасность нам угрожает, и, признаться, струсил не на шутку. Каждую секунду огонь мог добраться до трюма, где у нас лежал порох, а тогда всем нам пришлось бы не сладко. Мне стало не по себе.
А Свенсон был удивительно спокоен: он, сторонясь от огня, подошел к колоколу и пробил пожарную тревогу. Команда высыпала на палубу. Люди одевались на ходу и смотрели, как желто-красные языки огня подбираются к трюмам. Механик выскочил из машины с огнетушителем в руках. Вся палуба уже пылала, и он все примеривался, откуда начинать тушить пожар. Он нелепо прыгал, прицеливаясь то туда, то сюда, и не знал, на что решиться.
Свенсон посмотрел на него и расхохотался. Он-то мог смеяться. На «Лососе» стоял катер с керосиновым мотором, и в такую погоду ничего не стоило добраться на нем до берега. А то, что сгорит судно, ничуть не беспокоило старика. И шхуна, и груз, и даже будущие прибыли были надежно застрахованы Свенсоном, и он ничего не терял от пожара.
Нам было хуже: у каждого в сундучке лежали тоненькие пачки долларов – всё наше богатство, заработанное в этих плаваниях. Мы знали, что их-то уж никто не вернет нам, когда пойдет ко дну «Лосось». Все сразу вспомнили о деньгах, и кто-то уже бросился в кубрик, но Свенсон рявкнул так, что никто не посмел уйти с палубы.
Старик приказал спускать катер, а механику крикнул:
«Бросьте, чиф, поздно!»
На «Лососе» всегда работали быстро. На этот раз страх подгонял людей, а Свенсон одним взглядом своих холодных глаз удерживал людей от паники. Минуты не прошло – катер уже качался под бортом. Свенсон взглянул на меня и движением головы показал – прыгай, мол! Повторять ему не пришлось – я первый прыгнул на катер и только тут, оказавшись в безопасности, почувствовал, как мне страшно. Захотелось закурить. Я пошарил по карманам и вспомнил о своей коробочке. Она осталась на судне. О том, чтобы возвращаться за ней, не могло быть и речи. Тут я вспомнил рисунок и надпись. «Кухонная соль», – подумал я о себе и почувствовал, как краска заливает мое лицо.
Один за другим вся команда перебралась на катер. Старик, как и положено, спрыгнул последним и приказал подальше отходить от шхуны. Матросы отпихнулись баграми, и катер, медленно двигаясь, стал отходить от горящего судна.
Механик возился с двигателем. Вдруг он побледнел, обнаружив, что на катере нет ни бутылки горючего. Как это случилось – я до сих пор не понимаю. Но в то время о том, как это случилось, никто из нас не думал. Мы все с тревогой думали о том, чем это кончится.
Положение сложилось незавидное. Охотское море – море коварное. Штили здесь подолгу не бывают, а в шторм на маленьком катере, лишенном управления, продержались бы мы недолго.
Когда Свенсон осознал это, он медленно, как медведь, не говоря ни слова, стал наступать на механика, в упор глядя на него своими жесткими серыми глазами. Механик встал навытяжку и бледный как снег ждал своей участи. Остальные расступились, расчистив для старика дорогу.
Наконец, подступив на полшага, Свенсон левым кулаком снизу вверх быстрым движением ударил механика в глаз, а правой рукой в то же мгновение схватил его за горло. При этом он захрипел так, словно не он душил, а его душили.
Мы все поняли – еще секунда, и механик навсегда перестанет дышать. Но никто не сдвинулся с места. Старика боялись.
И вот тогда неожиданная удаль накатилась на меня. Я бросился к Свенсону, толкнул его так, что, пошатнувшись, он выпустил горло механика и сел на банку. Сорвав куртку, я сунул ее в руки старику и, прежде чем кто-нибудь успел сказать слово, сбросил с ног деревянные туфли-колодки и вниз головой кинулся за борт.
В несколько взмахов я добрался до «Лосося». Вскарабкаться на палубу в то время для меня не представляло никакой трудности. Оглянувшись, я заметил брошенный огнетушитель, подхватил его, ударил о палубу и песчаной струей промел дорожку сквозь пламя к фонарной кладовке. Я знал, что там в запаянных бидонах лежало килограммов триста керосина. Один за другим бидоны полетели в воду…
«Довольно! – кричали мне. – Хватит, иди назад!»
Но я не слушал. Я выбросил все, до последнего бидона. Потом я кинулся в кубрик и выбросил все сундучки, кроме тех, которые были прикованы к койкам. Когда я покончил и с этим, вся палуба уже пылала, как огромный костер. Зажмурив глаза, я бросился к борту прямо через огонь. Я слышал, как затрещали в огне мои волосы, но тут же нащупал фальшборт, перевалился через него и оказался в воде. Секунду спустя глухой взрыв раскатился над морем. Мне показалось, что горячая волна окатила меня сзади. Я обернулся… «Лосося» не было на воде. Обломки и щепки всплывали из глубины. Некоторые еще дымились…
Как я попал на катер, не помню. Когда я очнулся, матросы баграми вылавливали бидоны и сундучки. А Свенсон стоял надо мной. Он улыбался, точно ничего не случилось.
«Ну-ну, – сказал он, когда я открыл глаза. – Молодец, миссис Скалки. Теперь все в порядке, и повар сделался моряком».
А мне стало страшно. Так страшно, как никогда еще не бывало. У меня стучали зубы, всего меня трясло, как от холода. Я не мог смотреть на Свенсона, мне страшно было увидеть механика. И тут, наверное, я и решил расстаться и со Свенсоном и с морем. Тогда без всяких приключений мы добрались до Олюторки. Там пожили на берегу, раскинув лагерь, как робинзоны, а через полтора месяца пришел пароход и доставил нас в Сан-Франциско.
Свенсон уговаривал меня пойти с ним в новый рейс, но я отказался. Тогда старик, кряхтя, выдал мое жалованье, не прибавив ни копейки. Он только сказал на прощание:
«Ладно, Пит, я не в обиде на тебя. Когда подведет живот, можешь вернуться ко мне. Для тебя всегда найдется местечко, и, скорее всего, матроса, а не повара».
К осени он снарядил новую шхуну. А я остался на берегу. Мне вскоре и в самом деле пришлось подтягивать пояс. Я голодал, но к Свенсону так и не пошел. Я долго скитался по Америке, пробавляясь случайными заработками. Потом мне удалось зацепиться за нефтяные промыслы. Там дело пошло лучше, чем на море, и скоро я стал мастером на буровой. Потом я скопил немножко денег, сел пассажиром на пароход, добрался до Японии, а оттуда перебрался в Советский Союз. Вот и все…
Я достал коробочку и протянул Скалкину.
– Возьмите, – сказал я, – и, если не секрет, скажите, каким ветром вас занесло опять в эти края?
– Да, я и забыл, – хватился Скалкин. – В тот раз возле нашего лагеря на берегу мы нашли черные поля, вроде асфальтовых мостовых. Тогда я не знал, что это такое, и удивлялся, глядя на старика. Он ножом отковыривал куски черной твердой, как камень, земли и рассовывал себе по карманам. Он никому не говорил, зачем ему это нужно. Но однажды утром, придя на камбуз жарить свой хлеб, он вслух размечтался о нефти… Еще тогда я кое-что понял, и вот теперь еду проверить свои предположения.
…Мы разошлись под утро. На другой день Петр Петрович с бригадой рабочих высадился на берег. Когда катер отвалил от борта, Скалкин помахал мне рукой на прощание, и больше я его не видел. В Олюторке у меня было много всяких хлопот, а потом я просто забыл об этой встрече.
Но недавно, читая газеты, я узнал, что в тех местах начинают разведочное бурение на нефть. И мне сразу представился мой ночной собеседник. Вот тогда и вспомнил я свою костяную коробочку, а заодно и всю эту историю.
БЕЛУШОНОК
За лето на больших белух Васька вдоволь насмотрелся на промысле. А вот маленьких белушат ему ни разу не приходилось видеть, и, когда вместе с крупным зверем в невод попал белушонок, Васька очень обрадовался. Он стрелой помчался на берег, присел на корточки рядом с белушонком и стал его разглядывать.
Белушонок лежал у самой воды, неуклюже ворочался и шлепал по песку плоским широким хвостиком. Морда у него была тупая, рот беззубый, туловище круглое, вроде толстой морковки, а по бокам торчали два маленьких плавничка. В общем, был он похож на большую белуху. И кожа на нем была такая же – как облупленное крутое яйцо. Только у взрослых белух она и цветом, как крутое яйцо, а у белушонка черная, с синевой, как спелая слива.
Тут Васька понял, почему у белух другой раз бывают черные горбы. Это белушата сидят, прижавшись к матерям.
Ваське стало жаль белушонка. Он погладил его и сказал ласковым баском:
– Эх ты, бедненький, куда же ты с большими-то полез? Гулял бы себе по морю…
Белушонок ничего не ответил, только вздохнул и моргнул узкими глазками.
Тем временем ловцы таскали зверя из невода. Вода возле берега бурлила и пенилась, как кипяток на огне. Белухи – огромные звери – носились во все стороны, били широкими хвостами, налетали друг на друга, выскакивали из воды, ныряли, кувыркались, но уйти из невода не могли. Бросится белуха в одну сторону – тут берег. Повернет назад, бросится в другую – там сеть.
Стоя по пояс в воде, ловцы накидывали веревочные петли на широкие хвосты зверей, потом вдесятером, ухватившись за конец, тащили белуху на песок. Иную вытащат – она бьется, шлепает по песку хвостом, прыгает – подойти страшно. А другая лежит смирно, как неживая, только изредка вздохнет протяжно и ухнет, выпуская воздух из дыхала.
Наконец последнюю белуху вытащили на песок и сели тут же отдохнуть и покурить.
А Васька глянул на море и вдруг заметил, что рядом с опустевшим неводом плавает большая белуха. Он подошел к старшему ловцу.
– Смотри-ка, дядя Антон, – сказал он. – Вон зверь у невода ходит. А ты говорил, что белуха невода боится.
– Зверь, говоришь? – Антон из-под руки глянул на море. – И то, зверь. Эй, ребята! – обернулся он к ловцам. – Несите-ка сельдяной невод, поймаем вон того зверя. Да живо!
Ловцы побежали за неводом, а Антон еще раз поглядел на море и объяснил Ваське:
– Это того белушонка мамка. Вишь вот зверь, а детенка своего не бросает. Боится она невода – как не бояться, – а от белушонка ни-ни, ни за что не уйдет.
Ловцы принесли невод, погрузили на лодку и, взявшись за весла, стали обметывать одинокую белуху. Васька посмотрел на них и опять присел возле белушонка.
– Вот теперь и мамку твою за тебя поймают, – сказал он, – глупая твоя мамка: и тебя не уберегла и сама теперь попадется. Не то что мой папка, мой – умный знаешь какой? Вон он на катере зверя караулит. – И Васька рукой показал на море.
Там, за полкилометра от берега, покачивались на волнах две большие низкие лодки с белушьими неводами и стройный высокий катер.
Белушонок опять промолчал, открыл только рот и чуть шевельнул плавничками.
Коротким неводом ловцы быстро окружили белуху и потянули к берегу. Она далась легко, только под конец забилась и выкинулась на песок чуть не до половины. Ее за хвост повернули мордой к морю, вытянули еще немного и оставили у самой воды.
Это была очень большая белуха – больше самого здоровенного быка. Она тяжко дышала, раздувая белые бока, и тоже моргала глазами.
Васька не очень вежливо ухватил белушонка за хвост и поволок по песку к пойманной белухе.
– Пойдем, я тебя к мамке отведу, – сказал он, – хоть напоследок друг на дружку посмотрите, попрощаетесь.
Тут увидел он управляющего промыслом, вышедшего на берег.
– Петр Ильич, – крикнул Васька, – гляньте, кто попался-то!
– А ты и рад, дурачок, – сказал управляющий. – Моя бы воля, я бы их всех отпустил, и больших и маленьких. Да ничего, брат, не поделаешь. Наша должность такая. Не таскай ты его, не мучай. Давай-ка лучше зверя сочтем. – И он принялся считать белух, лежавших на берегу. Их оказалось больше сотни. Потом управляющий пристально оглядел спокойное море и чистое небо, окинул глазом горизонт и тут заметил маленькое серое облачко.
– Придется, ребята, зверя повыше поднять, – сказал он ловцам, – к вечеру как бы шторм не разыгрался. Смотрите, добычу не смыло бы.
– И то, – согласился Антон. – У меня с утра кости ломит. К погоде, не иначе. Да и чайки вон на воду не садятся… Давайте-ка, ребята, авралом.
Уставшие за день ловцы нехотя поднялись и стали оттаскивать белух подальше от берега. Звери были тяжелые, а людей на промысле и без того не хватало. Чтобы убрать до вечера всех белух, приходилось с этим делом спешить. А тут как раз дежурный на вышке дал сигнал – поднял красный флаг на короткой мачте. Это означало, что показался зверь.
Васька поглядел на море. Там белые и черные горбы то и дело поднимались из воды и пропадали снова, и даже издали было понятно, что идет большой косяк зверя.
А управляющий не на белух смотрел, а на катер. Он боялся, как бы зверя не прокараулили. Если солнце бьет в глаза, белуху в море плохо видно.
– Эх, хорош косячок, – сказал управляющий. – Семен бы только не проворонил.
Васька услышал эти слова и обиделся за отца.
– Как же, проворонит, – сказал он. – Сами не провороньте, а папка вон катер заводит.
На катере и в самом деле завели мотор. Белый дымок показался за кормой. Катер двинулся с места, сперва тихонько, потом, натянув буксиры, сразу рванулся вперед и помчался, огибая косяк и таща на буксире обе лодки. С задней два человека белыми охапками сбрасывали за корму тяжелый невод.
Почуяв недоброе, весь белуший косяк круто свернул в сторону. Но было уже поздно. Сеть зыбкой стеной встала на пути к открытому морю, и белухам невозможно было прорваться.
На берегу ловцы спешили, как могли, с уборкой, но дело все равно шло медленно. Управляющий сам то и дело брался за лямку. Тут он вспомнил, что есть на промысле старая лошадь Машка. На ней возили дрова для кухни и воду с ключа.
– Эй, Васька, – крикнул управляющий, – полно тебе с белушонком играть, давай-ка работать!
– А чего делать-то? – спросил Васька.
– Вот сейчас Машку приведут, так ты садись на нее верхом да будешь белух возить. Ясно?
– А чего же, – согласился Васька, – это можно.
Он любил ездить на Машке верхом. Лошадь была послушная, и Васька легко с ней справлялся. Его подсадили на лошадь, он взял в руки повод. Рабочие накинули лямку на хвост белухе, Машка тронула и не спеша потащила зверя.
– Эй, с дороги! – покрикивал Васька и подгонял лошадь.
А катер уже повернул к берегу. За ним длинной цепочкой лежали на воде поплавки. И ни одна белуха не могла пройти под ними. Если бы огромный зверь ударил с ходу, он пробил бы невод, как паутину. Но белухи подплывали поближе к сетке и, увидев белые ровные клетки, так пугались, что, разом повернув, торопились уйти подальше от страшного невода. А невод стягивался крутой дугой и вот-вот должен был совсем закрыть зверю дорогу к морю. Похоже было, что на этот раз косяк не уйдет.
На берегу работа остановилась. Ловцы смотрели на невод и гадали, сколько белух вытянут на этот раз. Сказать этого пока никто не мог, но видно было, что зверя попалось очень много.
Испуганные белухи забились, подняли брызги. Вода в неводе забурлила, побелела и глухо зашумела, словно где-то неподалеку гремел водопад.
Как раз в это время Васька подъехал к матери белушонка, и Антон набросил ей на хвост петлю. И, если бы Васька сразу тронул лошадь, наверное, ничего бы и не случилось. Но он решил напоследок еще поговорить с белушонком. Он подъехал к нему поближе и сказал:
– Ну, прощайся со своей мамкой. Теперь я ее прямо на завод свезу…
Тут на берег накатилась небольшая волна. И то ли испугалась Машка, то ли не хотела ноги мочить, только она попятилась задом и наступила на хвост белухе. Та рванулась и, почуяв под собой воду, собралась с силами, вся изогнулась, как рыба, сильно отпихнулась хвостом и сразу оказалась в море.
Лямка была длинная. Прежде чем Васька опомнился, белуха уже далеко отплыла от берега. Она с разгона так дернула лямку, что лошадь от неожиданности села на задние ноги и сползла в воду. Она тут же попыталась встать, но под водой песок жидкий, как кисель.
Машка не удержалась, сползла еще глубже, а секунду спустя только голова лошади осталась над волнами.
Машка отчаянно билась. Глаза ее налились кровью, ноги работали, как пароходные колеса, но как ни старалась, не могла она справиться с белухой. Та повернула в открытое море и понеслась вперед. Она шлепала хвостом, глубоко ныряла и снова поднималась из воды, чтобы вздохнуть.
Лошадь вместе с Васькой тащились за ней, как на буксире.
На берегу, завидев это, ахнули. А Васька даже и не заметил, как все это произошло. Он только схватился покрепче за шею лошади и что есть силы прижался к ней. Секунду спустя он понял, что белуха тащит их в открытое море, сжал Машкину шею еще крепче и отчаянно закричал:
– Папка, тону!
Он бы, наверное, и еще раз позвал отца. Но тут горькая вода набралась ему в рот, он захлебнулся, цветные круги закружились перед его глазами, и все пропало… Он уже не видел и не слышал ничего, но по-прежнему, как клещами, сжимал ручонками шею лошади.
А невод уже притонили. Катеру осталось пройти метров двести. Уже вышел на нос матрос, чтобы бросить конец веревки на берег. Но, как только белуха потащила Ваську, рулевой, заметивший его, круто отвернул катер от берега, наперерез зверю.
– Руби конец! – приказал Семен матросу. А сам выхватил бинокль из футляра и быстро глянул на море, на берег, на невод.
До берега и так было рукой подать, а в бинокль он показался еще ближе. В неводе билось сотни три жирных, крупных белух. Та белуха повернула и пошла вдоль берега. А Васька по-прежнему крепко держался за шею лошади.
«Успею!» – решил Семен.
Матрос уже замахнулся топором, но Семен ему под руку крикнул так, что услышали даже на берегу:
– Стоп, не трогать невод!
На секунду показалось всем, что Семен хватился поздно. Топор блеснул на солнце и с глухим стуком ударил по канату. И все ждали, что вот разлетится пополам канат и зверь лавиной пойдет в море из невода. Но ничего не случилось. Матрос в последнее мгновение успел вывернуть топор, и он ударил по канату плашмя.
В ту же секунду Семен бросился к рулевому.
– Лево на борт! – крикнул он.
– Есть лево на борт! – откликнулся рулевой и перекатал рулевое колесо. Катер рыскнул кормой и круто свернул к берегу.
– Ничего, ребята, поспеем! – сказал Семен так, словно просил прощения у команды катера. – Поспеем, вот увидите. Держи конец! – крикнул он тут же и сам кинул на берег выброску.
Андрей Некрасов
Морские сапоги (рассказы)
Много лет назад я впервые увидел Тихий океан. Матросом, кочегаром, рыбаком и ловцом морского зверя обошел я все побережье от Чукотки до Посьета, а потом молодым штурманом мне пришлось водить корабли по Охотскому морю.
Много интересного повидал я за эти годы, и кое-что из того, что пришлось пережить и увидеть, я, как сумел, записал в своих рассказах.
Из этих рассказов в 1935 году собралась моя первая книжка - «Морские сапоги». Ее тогда охотно читали ребята.
С тех пор прошло много лет. Мои первые читатели выросли. Многие из них стали хорошими моряками.
Недавно мне в руки попала эта книжка. Я полистал ее, вспомнил, и мне подумалось, что сегодняшним ребятам тоже, наверное, интересно прочесть эти рассказы.
Правда, многое изменилось на Дальнем Востоке. Могучие промысловые и транспортные корабли под красным советским флагом бороздят сегодня воды Тихого океана. И люди там живут другие, и техника другая пришла в Приморье, и жизнь там стала другая. Но почему бы, подумалось мне, нашим ребятам не узнать о том, как полвека назад жили и трудились их деды на Дальнем Востоке? Ведь эти люди из забытого, истерзанного гражданской войной и интервенцией края голыми руками создавали то, чем сегодня стал наш советский Дальний Восток.
МОРСКИЕ САПОГИ
К вечеру отец вернулся из города. Он привязал лодку, поднялся на пристань, почерневшую от времени, и, уверенно ступая, зашагал по берегу. Одной рукой он придерживал на плече весла и багор, в другой - нес большой узел, завязанный в новый пестрый платок.
Пап, чего привез? - крикнул Гришка, выбегая навстречу.
Отец промолчал. Тогда впереди отца, пританцовывая и оглядываясь на каждом шагу, Гришка помчался к дому.
У крыльца отец поставил весла, потопал, сбивая песчинки, прилипшие к ногам, и не спеша вошел в дверь. Потом так же неторопливо он положил узел на лавку, развязал платок, развернул белую тряпицу, и тут Гришка, глаз не спускавший с отцовских рук, ахнул от неожиданности. Он с самого начала догадался, что ждет его знатный гостинец, но такого подарка и он не ожидал. В свертке оказались сапоги. Да какие! Настоящие морские сапоги, с высокими голенищами раструбом, с двойным носком, с толстой подметкой, подкованной медными гвоздями. И пахли они не кремом каким-нибудь, а настоящим дегтем. О таких сапогах Гришка мечтал давно, они ему и во сне снились. И вот теперь, когда сапоги оказались у него в руках, Гришка испугался, что будут они не впору. Уж больно маленькими, точно игрушки, показались его сапоги рядом с отцовскими.
Наскоро поблагодарив отца, Гришка достал из своего сундучка чистые портянки, ладонями вытер правую ногу, умело подмотал портянку и за ушки, осторожно, натянул сапог. Он пришелся в самый раз, и у Гришки отлегло от сердца. Левый тоже оказался впору. Гришка встал, потопал, как отец, каблуками, носками, всей ступней… Сапоги сидели, как заказные, и Гришке захотелось сейчас же побегать в них. Он вышел на крыльцо, прошелся по берегу. Он нарочно ступил на груду сучьев, сложенных у сарая. Сучья захрустели, как сухари, а ногам хоть бы что! И галька разлетается из-под сапог во все стороны, точь-в-точь как у отца, когда он ходит по отмели. Здорово!
Обегав все кругом, Гришка решил до конца испытать обновку: он важно подтянул голенища и осторожно вошел в реку. Вода охватила ноги, будто кто сжал их холодными ладонями. Поднявшись со дна, забурлили кругом веселые пузырьки, и ни одна капля не просочилась в сапоги.
Гришке вдруг стало стыдно: в настоящих морских сапогах он себя почувствовал настоящим, взрослым моряком, а взрослые никогда не ходят в воду зря, без дела. Можно, конечно, было тут же и выйти на берег, но выходить совсем не хотелось. Тогда Гришка придумал себе дело в воде: окинув хозяйским взглядом пристань, он постоял минуту, будто задумавшись.
Посмотреть, хорошо ли лодка привязана? - сказал он наконец и, прямо против течения, разгребая сапогами воду, зашагал к пристани.
Он доверху подтянул голенища, но возле самой лодки все равно черпнул бы сапогами, если бы не успел рыбкой навалиться на корму и задрать ноги кверху. Потом он перелез на нос, перебирая мокрую веревку, подтянул лодку к пристани и нащупал узел. Узел ему не понравился - слабо затянут. Гришка дернул за свободный конец, узел сразу распустился, веревка выхлестнулась из кольца, а Гришка поскользнулся и растянулся поперек банки. Он сразу вскочил, но течением нос лодки уже отвернуло от пристани. Гришка кинулся на корму, но и корма уже отошла далеко, а грести и цепляться было нечем.